Владислав Голков Архив
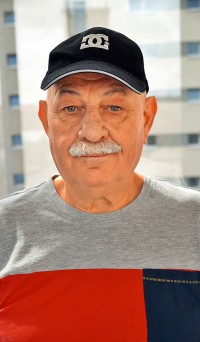
КАК Я «РАСШИФРОВАЛ» СВОЮ ФАМИЛИЮ
(опыт автобиографического шаржа)
Все мы, прошедшие школу социалистического реализма, немного юмористы. В той жизни можно было либо смеяться, либо плакать. Большинство выбирало юмор. А меня с детства учили: там где большинство, там справедливость. Так что не случайно меня обозвали «молдавским юмористом», когда читали мой рассказ в передаче «Опять двадцать пять» всесоюзного радио... За почти пятидесятилетнюю трудовую деятельность сменил несколько областных и республиканских газет, а также один журнал, который сменил уже непосредственно на Германию, - где и нашел пристанище в газете Еврейской общины Потсдама, называвшейся вначале «Алеф-Бет», а теперь «Алеф». Многие годы жизни в СССР пытался перемешивать журналистику с деятельностью спортивного арбитра, тренера, менеджера. Обвинения в попытке совместить несовместимое не приемлю, так как журналистика требовала работы головой, а спорт – работы ногами. В итоге все органы были задействованы, и получилась цельная натура. К этому могу добавить, что являюсь бывшим членом бывшего Союза журналистов бывшего СССР. Не могу не отметить такой факт. Долгое время среди моих многочисленных родственников шли дебаты: «Еврейская или нееврейская фамилия Голков». Пришли к выводу, что нееврейская, так как я значительно проще проходил в институт, на работу, в различные общественные организации, чем мои двоюродные братья по маминой линии, носившие фамилию Гершензон. Тут же возникла новая проблема: так откуда нееврейская фамилия в еврейском роду?. Многолетние рассуждения привели-таки к мнению, что изначально наша фамилия имеет еврейские корни и происходит от понятия «Голд копф» - золотая голова. На этом и успокоились. Меня подобная версия тоже устраивает. Посему со спокойной душой и ставлю свою подпись...
Владислав Голков
«Обратный отсчет» - таково предварительное название книги, над которой сейчас работает журналист Владислав Голков. В своей книге воспоминаний автор как бы возвращается назад, к молодости, к юности. И при этом оценивает прожитые годы - более пятидесяти в СССР и СНГ и двадцать – в Германии. Причем оценки эти вовсе не носят характер нравоучений и наставлений «в наследство потомкам». Это, скорее, взгляд со стороны на пройденный жизненный путь. Взгляд с улыбкой... Предлагаем вашему вниманию главу из книги.
МАДАМ САРА, МАДАМ КЛАРА И ПРОЧИЕ МАНСЫ
С полным основанием могу утверждать, что я – дитя войны. Звучит несколько странно, тем более, что на самом деле я убежденный пацифист. И если испытываю какие-то положительные эмоции, связанные с военными действиями, то это при воспоминаниях о брехтовской «Мамаше Кураж». Но если бы не война... Как-то отец полушутя сказал мне: «Если бы не война, сынок, тебя бы на свете не было», – помолчал немного и, поняв неловкость ситуации, «исправил» положение, добавив: «Нет, конечно, был бы у нас ребенок. Но гораздо позже. И это уже был бы не ты». Так что, как ни крути, война для меня, что для той мамаши Кураж – мать родна. Хотя «мамочка» оказалась не слишком-то ласковой, и хлебнуть горюшка мне пришлось с самых первых дней жизни. Вместо уютной больничной койки в Кишиневе, я появился на свет в деревенской избе под Сталинградом, и вместо медперсонала роды принимала моя малограмотная бабушка Сара, исправно выполняя указания роженицы. Все-таки моя мама была врачом, правда, только-только испеченным, даже диплома еще получить не успела. Все обошлось почти благополучно, несмотря на не совсем комфортные условия. Через год я даже так окреп, что был в состоянии перенести длительное, совершенно изнурительное путешествие. Перед самым началом страшной Сталинградской битвы мама и бабушка благоразумно решили, что ждать им здесь больше нечего и направились в менее опасную зону – в Ташкент. Возможно, они бы и не тронулись с места, если бы знали, что спустя почти семьдесят лет немецкие власти будут выплачивать денежную компенсацию тем лицам, которые находились в зоне боевых действий. Или не более чем в 100 км от них. Мои родственники находились чуть дальше, и вообще, заблаговременно драпанули. А могли бы подождать, пока придут нацисты, и в этом случае сейчас вообще никому не пришлось бы ломать голову – давать компенсацию попросту было бы некому.
...Дорогу до Ташкента я перенес практически благополучно. Если не считать сильнейшей простуды, вызвавшей двусторонний отит, последствия которого до сих пор периодически радуют мою супругу, всякий раз не упускающую возможность повеселиться по поводу моей глухоты. Правда, народная поговорка, гласящая, что во всяком плохом есть и свое хорошее, на сей раз подтвердилась в полной мере: из-за двустороннего отита меня не забрали в армию, хотя призывников 1942 года рождения было катастрофически мало. Так я и прожил с записью в военном билете «не годен к службе в мирное время». При этом большинство моих знакомых считали, что я «ловко откосил». А что еще можно было подумать, глядя на пышущего здоровьем учащегося техникума физкультуры и спорта, игрока гандбольной команды?
...В Ташкенте я и прожил до самого конца войны. Правда, уже с одной только бабушкой. Мама сразу же по прибытии в этот благодатный край ушла в действующую армию, где и спасала наших ребят, мотаясь до передовой и обратно на санитарном поезде.
А тем временем мой отец Виктор Ионович Голков... Вообще-то, при рождении ему дано было другое имя. Глубоко религиозная мама назвала своего младшенького еврейским именем Авигдор. И не будь на земле антисемитизма, не было бы никакого Виктора Ионовича, а был бы Авигдор бен Ейна. Но не об этом сейчас речь. Военная биография моего папы – это что-то особенное. Именно его история сильно повлияла на мое мировоззрение, и была одним из важных звеньев в цепи, приведшей меня в число убежденных фаталистов. Ну, не окажись мой отец именно в то самое время и в том самом месте, не встреться с тем самым человеком, и жизнь его, а следовательно, и всей нашей семьи потекла бы совсем по другому руслу. Разве можно такое стечение обстоятельств назвать случайным? А произошло следующее. С первых дней войны мой отец, разумеется, оказался в военкомате и, соответственно, был направлен на передовую. К тому времени был он уже полуврачем, успешно окончив третий курс Одесского мединститута. Именно по этой причине в армии его направили в распоряжение начальника медслужбы пехотного полка. «Что же мне с тобой делать? – вслух рассуждал седой начмед. – Врачем назначить не могу, недоучился, медбратом послать, так жалко, ты же почти врач. Знаешь что, сынок, - это он уже к отцу обратился, - поезжай-ка ты в тыл, доучись, тогда толку с тебя будет больше». И написал соответствующее предписание в штаб. Так мой отец оказался в военно-медицинской академии в Саратове. А будь тот начмед другим человеком? Загремел бы мой отец на передовую медбратом, а то и просто санитаром. Разве можно все это назвать случайностью?
Пролетели два нелегких года в голодном Саратове, и вот уже молодой капитан Голков прибыл в действующую армию на должность начальника лазарета артиллерийского полка. Лазарет размещался в нескольких армейских палатках, разбитых в пяти километрах от передовой. Каждое утро денщик запрягал лошадку, и отец ехал с докладом о текущей обстановке к командиру полка, непосредственно на линию боевых действий. Полк то продвигался вперед, то отступал и снова уходил в атаку. Однажды, при отступлении, лазарет спешно ретировался. Только-только погрузили раненых в машины, только сняли и уложили палатки. Отъехали всего на несколько метров, и ровнехонько между колышками, где стояла головная палатка, угодил разрывной снаряд. Задержись они хоть бы на одну минуту!..
Отца ударило комом земли по голове, на время он отключился, а когда очнулся, (он всегда рассказывал этот эпизод с улыбкой): «Все не мог сообразить, на этом еще я свете или уже на другом». Больше отец не получил ни одной царапины. Такая ему была уготована судьба. А когда ему исполнилось семьдесят, он сказал невесело: «Я уже прожил б-а-а-льшой кусок чужой жизни! Разве мы думали на войне, что доживем до таких лет?!». К этому времени его уже начала грызть страшная болезнь – рак крови.
...После Победы отца сразу не демобилизовали, и мы с мамой прожили с ним более двух лет – сначала в Германии, потом в Австрии. Только в 1947 году прибыли мы домой, на родину, в Кишинев, где я и попал, наконец, в объятия безумно меня любившей бабушки Сары. В семейном альбоме хранится уникальная фотография – пятилетний карапуз в военных галифе и во френче (это же была самая модная одежда – военная форма), в специально сшитых на заказ сапогах гордо взирает на окружающую родню. А мой дядя Миша, младший мамин брат, до сих пор вспоминает наше возвращение, как я тогда, глядя с высоты своего заграничного положения, гордо сказал: «Сто, Миска, не уснаешь?!».
Здесь, в Кишиневе, под присмотром обожавшей и невероятно баловавшей меня бабушки, прошли лучшие годы моего детства. Саляйка, - так почему-то я называл бабулю, хотя до сих пор не могу понять смысл этого слова, - постоянно подсовывала мне «денежки на купить что-нибудь вкусненького», и я мог повести в кино, скажем, на фильм «Александр Пархоменко», который сам смотрел с десяток раз, половину всех пацанов с нашего переулка. А однажды я, семи- или восьмилетний пацан, за два рубля почистил обувь у уличного чистильщика, и это вызвало возмущение всех соседей.
«Мадам Сара, нельзя так баловать ребенка!» - возмущалась тетя Циля. «Ай, бросьте! – отвечала бабушка. – Много мы с вами видели радости в жизни? Так дайте детям кусочек свободы!». Тетя Циля, видимо, была не согласна, но возражать не стала. Здесь вообще не принято было спорить с соседями. А уж тем более ругаться. Здесь царила совершенно своеобразная атмосфера, сродни той, что описывал Бабель в своих «Одесских рассказах». Кстати, от Одессы до Кишинева не так уж и далеко – каких-то 170 км.
Моя бабушка жила в самом центре Кишинева, в переулке с поэтическим названием «Театральный». Это был небольшой отросток от центральной улицы Ленина. С левой стороны от него располагался парк Победы с примыкающей к нему центральной городской площадью с таким же названием (сейчас, естественно, все это переименовано) – во время парадов и различных шествий именно здесь устанавливали центральную трибуну. А с правой стороны находился парк Пушкина с кинотеатром «Патрия» (Родина) и памятником человеку, чье имя мало что скажет русскому человеку, но который особо почитаем местным населением. Штефан чел Маре (Стефан Великий) - по преданию, основатель Кишинева.
Театральный переулок - это особая территория, своеобразный анклав, который после освобождения Кишинева от румынских сподвижников Гитлера едва ли не полностью заняли евреи. И устроили жизнь на свой манер: « как в те еще времена». Интересно, что в той части переулка, где располагались маленькие одноэтажные дома, не было номеров квартир. И на приходившей корреспонденции стоял только номер двора и фамилия. Прямо, как сейчас в европейских государствах.
Моя бабушка жила во дворе номер пять, где располагалось еще пять квартир. И назвать их обитателей чужими людьми просто язык не поворачивается. Если кто-то собирался печь синенькие (так на юге называют баклажаны), то к нему примыкали и остальные. Делалось это так. На четыре кирпича ставился огромный лист железа, снизу разжигался костер, и на этом своеобразном протвене обжаривали синие до полной черноты. То есть, шкурка практически сгорала, а мякоть оставалась просто хорошо поджаренной. И потом из нее получалась такая икра! С особым привкусом, с запахом дыма... Ничего подобного нигде я больше не ел.
Поначалу обитатели двора общались между собой на идише. Но под давлением времени перешли на русский. И нередко во дворе можно было услышать такие диалоги.
- Мадам Сара, у вас есть немного соль?
- Конечно, мадам Фаня, - вы же знаете, где он лежит.
Разумеется, «мадам Фаня» знала, но надо же соблюдать этикет.
- Мадам Клара, вы не можете дать десять рублей? Буквально на пару дней.
- Ой, мадам Сара! Мы тоже ждем, когда к Робику придет клиент. Я сегодня на базар даже не ходила...
Робик, зять мадам Клары, имел частный зубной кабинет на дому. И, по всей видимости, дела у него шли не шибко споро.
Совсем не случайно мадам Клара отметила, что «на базар еще не ходила». Это был ритуал, непременное условие и образ жизни. Театральный переулок «питался с базара». Разумеется, если были деньги... Каждый день бабушка шла на базар, «купить кусочек мяска к обеду». Чаще всего это была курица. И в перерыве между работой дед получал внушительную миску жирного юх (бульон) непременно с домашней лапшой, и внушительный кусок курицы. Дед тяжело работал, ему требовалось усиленное питание. И он его получал в полной мере. По-другому быть не могло, иначе это была бы не еврейская семья. Но это была таки настоящая еврейская семья на все сто! И центром ее, основой и костяком была моя любимая Саляйка. У бабушки была уйма братьев – то ли восемь, то ли десять. Не всех я могу сейчас припомнить, не с каждым я плотно общался в свои детские, да и в последующие, годы. Но хорошо помню, что все они регулярно посещали свою любимую сестру Сарочку. И для каждого она находила и доброе слово, и кусочек жареной курочки. Она была для них второй матерью, и они это очень ценили. Все саляйкины братья «вышли в люди» - так тогда называли в Театральном переулке всех, кто добился в жизни более или менее устойчивого положения. Например, стал инженером, как дядя Илья, или фотографом, как дядя Яша. Не говоря уж о дяде Лене!.. Дядя Леня достиг заоблачных высот. Он стал писателем. В республиканском драмтеатре шла его пьеса «Счастье Марики». Правда, в соавторстве с ним числился известный в те времена драматург Масс. Не уверен, что этот Масс был знаком с содержанием пьесы, но у него было Имя! Впрочем, дело не в этом. Наверное, дядя Леня умел писать и без соавторов. Во всяком случае он был председателем правления Союза писателей Молдавии, а в советском Энциклопедическом словаре выпуска 1957 года было сказано, что Леонид Корняну является основоположником молдавской национальной литературы. Мне думается, что далеко не все молдаване знали, что «их» Корняну на самом деле «наш» Коренфельд... У дяди Лени был шикарный автомобиль – ЗИМ. На всю Молдавию их было только два – еще один у первого секретаря ЦК компартии Молдавии. Можете представить себе восторг детворы, когда дядя Леня катал нас по Театральному переулку на своем роскошном авто. Не понимаю, как я не лопнул от гордости, ведь это был МОЙ дядя...
Насколько я помню, дедушка не имел ничего против визитов бабушкиных братьев, но особо близко с ними не общался. Мой дед Лейба занимал особое место в семье, да и во всем дворе - этом великолепном теремке. Это был с виду угрюмый и замкнутый человек, который особо ни с кем не разговаривал. Разве что перекидывался парой слов с бабушкой Сарой, причем только на идише. Русского языка он, практически, не знал. В минуты отдыха любил почитать газету, выходившую на идиш в Биробиджане, и даже – кто бы мог подумать! – отправлял туда свои стихи(!). Порой мне кажется, что мои детские впечатления не позволяют дать объективную характеристику этому весьма своеобразному человеку. Наверное, гораздо лучше о нем могли бы рассказать мои двоюродные братья, которые прожили рядом с ним все детство и юность. Мои же впечатления могут быть не вполне точными. Во всяком случае, совершенно очевидно, что в душе этого угрюмого человека пылали буйные страсти. И когда бабушка Сара, будучи еще совсем не старой, ушла из жизни, дед страстно влюбился в женщину гораздо моложе себя. И при его крутом норове и властном характере, стал классическим подкаблучником. Интересно, что свою вторую жену, которая в общем-то и не скрывала, что ждет, «когда освободится квартира», дед пережил на много лет.
Дед Лейба был уникальным специалистом, каких в Молдавии можно было пересчитать по пальцам одной руки. Он делал драницу. Весь закуток перед входом в нашу квартиру был заставлен огромными бревнами в два-три обхвата. До сих пор не могу понять, как дед в одиночку распускал их на небольшие поленца, которые на специальном станке, специальным же ножом-топориком расщеплял на драницу. Чуть пошире – для крыши, чуть поуже – для стен.
Надо ли говорить, какой это был дефицит в послевоенные годы. Вся Молдавия, как и вся страна, была сплошная стройка. А какое же строительство без дранки. Наверное, в наши дни не всем понятен смысл этого диковинного слова, а в те годы оно было буквально у всех на устах. Дранка - такие маленькие деревянные плашечки, которые набивают на стену (кладут на крышу) прежде чем штукатурить (покрывать соломой). Естественно, к деду стояла огромная очередь. Родные поговаривали, что имена очередников не вмещались в школьную тетрадь...
К сожалению, настало время покинуть уютный бабушкин двор и родной Театральный переулок. Настала школьная пора, меня забрали в дом родителей, с которыми вместе я познал все «прелести» кочевой жизни военного врача: за десять лет учебы сменил шесть школ в разных городах нашей необъятной родины. У бабушки я бывал наездами, только летом и совсем недолго. А потом бабушка очень рано ушла из жизни. И на этом совсем оборвалась моя связь с еврейством. В военных городках Украины и России, где мы по большей части располагались, к «еврейскому вопросу» относились несколько однобоко. Родители мои тоже не вспоминали о родном языке идиш, хотя в детстве оба им владели – папа в меньшей степени, а мама и вообще, в молодости преподавала в еврейской школе. Мне же по наследству досталась только запись в паспорте. Но иногда, особенно, когда мне приходилось сталкиваться с «проблемами пятого пункта» ( это надо кому-либо пояснять?!), во мне оживали теплые воспоминания о Театральном переулке, о дворе номер пять, и в ушах звучал знакомый голос тети Фани: «Мадам Сара, у вас есть немного соль?..».
СРЕДИ ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ СРЕДНИЙ, КАЖЕТСЯ, ЕВРЕЙ
Самые сладкие годы моей жизни прошли в Тамбове, небольшом российском областном центре. Сюда по случайному стечению обстоятельств (хотя, как я уже отмечал, ни в какие случайности не верю) занесла моего отца офицерская доля. Двадцатилетним юношей вступил я на эту российскую землю, уступив категоричным требованиям мамы. А покидал уже ставший родным город спустя ровно двадцать лет, которые пролетели мгновенно, словно легкий летний дождик.
Очень скоро я узнал о главных достопримечательностях области, которыми не прочь прихвастнуть интеллигентные тамбовчане: об особых ниточках, связывающих область с Боратынским, Пушкиным и Лермонтовым (о чем и написал три книги талантливый журналист Владимир Пешков, ставший для меня не просто другом, но и учителем). Также я узнал, что в прошлом Тамбовская губерния была совсем забитым краем, куда «возами свозили игральные карты», а Лермонтов и вовсе подлил масла в огонь, написав, что «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Правда, один местный «маститый» поэт заменил слова «не всегда» на ура -патриотическое «навсегда». Тем и прославился.
В своем знаменитом романе «Золотой теленок» Ильф и Петров целую главу посвятили доказательству, что, так называемого, еврейского вопроса в СССР не было. При этом слегка покривили душой, особенно тот, которого соавтор называл «загадочная еврейская душа». Так вот, в Тамбове действительно не было такого вопроса. По той простой причине, что и евреев, практически, не было. Так, очень незначительная часть населения, которую на различных конференциях и съездах, освещая непременный раздел «по национальному составу», всегда характеризовали словами «прочих национальностей». То есть, подавляющему большинству населения области евреи жизнь не отравляли, поскольку было их ничтожно мало. Лично я знал только троих. Начальника областного управления торговли (поговаривали, что первый секретарь обкома партии был настолько большим оригиналом, что прямо так и заявил: «На эту должность мне нужен еврей!»), провизора на областном аптечном складе и главного врача городской больницы по фамилии Рамазанович, который впоследствии оказался белорусом.
Откровенно говоря, в те годы меня эта проблема абсолютно не интересовала. Советская власть методично и последовательно вытравила из евреев все национальные корни так, что они не только отказались от обычаев и традиций своего народа, но и при любой возможности пытались скрыть национальность, прячась за «благопристойными» русскими, белорусами, украинцами, и даже узбеками,таджиками, в общем, за кем угодно. Вынуждены были прятаться, чтобы не портить биографию. И когда моя дочь, рожденная русской матерью, получала паспорт и все-таки спросила, какую национальность ей записать, я даже удивился. И спокойно сказал: « Я тебе не враг, доченька, и не задавай глупых вопросов». Правда, позже, когда я всеми силами пытался вырвать ее из Союза, ей пришлось менять национальность. У меня даже хранится уникальный документ, озаглавленный «Протокол заседания паспортного стола», где в повестке дня стоял один вопрос: о смене национальности...
Но это уже «мелочи жизни» А мне самому и прятаться не приходилось, поскольку фамилия «под русского» давала много преимуществ перед моими сородичами. Правда, только до тех пор, пока дело не доходило до анкетных данных. Тут уж, как говорится, никуда не денешься. К счастью, в Тамбове я только дважды менял место работы, причем, в таких ситуациях, когда моими анкетными данными никто не интересовался. Так мне тогда казалось, но...
Редакцию молодежной газеты, куда меня приняли на должность заведующего отделом спорта, возглавлял талантливый человек, который выбирал сотрудников, исключительно исходя из их творческих способностей, абсолютно не интересуясь национальными проблемами. Так мне казалось. Но однажды я случайно услышал его разговор со своим замом. «Слушай, старик, - говорил наш шеф,- я как-то не обращал внимание, что у меня из пяти отделов три возглавляют евреи. Как бы мне в обкоме по шапке не надавали». В чем его было винить? По сути, он был прав, могли и «надавать». Более «благоразумно» поступал редактор областной партийной газеты. Он вообще не брал евреев на работу. Не только потому что опасался, как бы по шее не надавали, а из принципиальных соображений. Его супруга работала в нашей «молодежке» статистом – такое теплое местечко: разнес десяток писем по отделам, а больше и делать-то нечего. Вот она и разбавляла остаток времени сплетнями да пересудами. И однажды поведала своим подружкам-машинисткам радостную новость. « Вчера выпили со своим маленько, я возьми и спроси про нашего Голкова. А он прям разбушевался. Никогда, говорит, этот жид у меня работать не будет. И так весь коллектив засорен всякими там жидами». На самом деле «засоренность» заключалась в том, что из тридцати сотрудников двое были украинцы, все остальные коренной, русской национальности.
Кстати говоря, наша «молодежка» во все времена была своеобразной «кузницей кадров» для главной областной партийной газеты. Выпускники МГУ, да и прочих вузов не сильно рвались в провинцию, так что почти все кадры «Тамбовская правда» черпала из «молодежки». Это уже было непреложной традицией, буквально все, кто поработал в «молодежке», непременно оказывались в главной партийной газете области. На мне традиция забуксовала, хотя в творческом отношении проблем со мной не могло быть. Я был единственным в области профессиональным спортивным журналистом, возглавлял соответствующую федерацию, печатался во многих центральных изданиях, да частенько и в этой самой партийной газете.
Впрочем, в смысле «пробуксовки» не я был пионером. Еще одним заведующим отделом в «молодежке» был Яков Абрамович Чверткин. Боевой офицер, прошедший войну в полковой многотиражке, он был из числа тех, кого называют «рабочая лошадка». Дело свое знал, но звезд с неба не хватал. Да и что там можно схватить, когда пишешь в раздел «Партийная жизнь». Переливание из пустого в порожнее и сплошная тягомотина. Однако этим оригинальным, а потому достаточно сложным жанром – говорить ни о чем, создавая видимость цельного – надо было владеть. Яков Абрамович владел. Во всяком случае настолько, насколько требовалось для публикаций «на важнейшую» тему в областных газетах и передачи по областному радио. В «Тамбовской правде» Якова Абрамовича печатали часто и с удовольствием, его материалы, в любом случае, были лучше тех, что изредка присылали районные газетчики. Печатали, но не более. И Яков Абрамович продолжал возглавлять отдел комсомольской жизни в молодежной газете. Это была та еще картина: на редакционных летучках совещались двадцатилетние юнцы, во главе с редактором примерно такого же возраста, и пятидесятилетний зав. отделом комсомольской жизни Я.А.Чверткин. В конце концов, он стал обладателем рекорда, достойного книги Гиннесса: наверное, был единственным в стране журналистом, который ушел на пенсию из молодежной газеты. Не по своей вине стал он героем песни: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
Кстати, о молодежи. Не так уж много было в Тамбове творческой молодежи, и все эти начинающие и продвинутые уже поэты, художники, актеры и даже журналисты, как сейчас бы сказали, тусовались вместе. Собирались то в театральной гостиной, то в мастерской более или менее проявившего себя художника. Или на квартирах у тех, кто ее имел, хотя таких было немного. Как-то на одной из очередных посиделок произошел любопытный эпизод. Мы собрались на квартире режиссера кукольного театра, который был чуть нас постарше. Выпивали, травили анекдоты, среди которых, как обычно, много было «про Абрама и Сару». В общем, все как обычно. И вдруг я тоже вспомнил анекдот, который казался мне и безобидным и смешным. «Хаим Аронович, почему вы женились на русской?» - «Вы знаете, эти еврейские женщины, они такие слабенькие, такие болезненные» - «А что, русские не болезненные?» - «Тоже болезненные, но их не так жалко!». Кто-то засмеялся, кто-то промолчал. А хозяин квартиры внезапно помрачнел и, зло глядя мне в глаза, сказал: «Ты прекрати здесь сионистскую пропаганду!» Откровенно говоря, я в то время толком и не знал, кто такие сионисты.
...Еврейского вопроса в Тамбове не было. Но к сорока годам я четко понял, что никакой перспективы в этом городе у меня нет, пора сматывать удочки и возвращаться на родину, в Кишинев. Уж там-то никто меня не попрекнет, поскольку почти каждый второй - сам еврей. Не тут-то было! Даже в городе, в свое время пережившем страшнейший еврейский погром, мне аккуратненько напомнили русскую поговорку про шесток и сверчка. Было это так.
Разумеется, мой приезд выглядел довольно странно. Каждый понимает, что люди, достигшие определенного социального уровня, в сорок лет просто так место жительства не меняют. Что-то за этим должно стоять. Потому поначалу меня приняли настороженно. Да и вообще, никто не собирался уступать мне своего места, все стояли плотно, плечо к плечу. Чтобы найти свой шесток, надо было кого-то расталкивать, а это никак не в моем характере. И когда мне предложили идти на место зав. отделом спорта в вечернюю газету на «живое место» , я попросту отказался. И надолго остался не у дел. Правда, за это время, пользуясь старыми связями, опубликовал несколько статей в центральных газетах, в том числе одну критическую в «Советском спорте». В городе образовалась внештатная ситуация: специальный корреспондент не приезжал, собкор находится где-то во Львове. Кто же написал разгромную статью на целый подвал? В конце концов меня вычислили, и ответственный секретарь «Советской Молдавии» - главной русскоязычной газеты республики - предложил мне место в секретариате. Должность ответственная, сильно престижная, но работа достаточно скучная. Впрочем, выбора у меня не было, и я согласился. А дальше произошло то, о чем я и подумать не мог: пятая графа и здесь сыграла со мной в кошки-мышки.
Когда ответсекретарь пришел к шефу с предложением моей кандидатуры, тот задумался и сказал: «Странный какой-то парень, из России в Молдавию перебрался. Поближе к границе, что ли? Наверное, хочет в Израиль рвануть» - «Да не похоже, - ответил секретарь.- Сам коммунист, родители коммунисты на ответственных должностях работают». - «А если все-таки уедет, - спросил редактор, - что ты будешь говорить?!». Ответсек ничего не ответил. Просто вышел из кабинета.Нужна ему была эта головная боль? Так в течение многих лет оставался я сотрудником редакции с удостоверением, с должностью в месткоме, а в штат редакции так принят и не был. Хотя к этому вопросу редактор возвращался неоднократно. Однажды даже сказал: «После Нового года будем оформлять, ты готов?». Я был готов, я уже спекся. Но после Нового года тема как-то растворилась в тумане. Можно ли осуждать этого несчастного редактора? Дело было в середине восьмидесятых, когда уезжающих на историческую родину обсуждали на партийных собраниях и клеймили позором, а в каждом отдельном случае начальство получало серьезную взбучку, вплоть до увольнения. Кому охота было рисковать своим местом? Даже ради хорошего сотрудника...
В нашей семье особых разговоров о еврейских проблемах никогда не было. Может быть, потому, что с молодых лет родителей моих носило сначала по дорогам войны, а потом по разным республикам необъятной страны, где приходилось служить папе - военному врачу. С многочисленной маминой родней мы поддерживали контакт крайне редко. Правда, когда я женился в первый раз, моя тетя печально сказала: «Я так не люблю, когда еврейские мальчики женятся на русских». Для меня эти слова звучали почти как оскорбление. Кстати , оба сына моей тети женаты на русских и благополучно живут с ними в Израиле. И обе женщины в совершенстве владеют ивритом. Эти братья вообще по жизни попали в комическую ситуацию. Когда они окончили школу, то решили поступать в московские вузы: один в архитектурный, второй, вообще – в какой-то уникальный институт, едва ли не единственный в мире, готовящий специалистов в области котлостроения. Каждый из них предпринял по три попытки, но безуспешно. Несмотря на их отличные знания, никто не торопился обзаводиться студентом по фамилии Гершензон. И тогда их отец, человек умудренный жизнью, прошедший войну, решился на отчаянный шаг. Прежде всего, он сменил фамилию, и поскольку мама моя была ему родной сестрой, он тоже стал Голков. Но мало этого – он сменил и имя Израиль на Игорь, а затем пришлось менять и имя его отца Лейба – на Лев. Так и стал мой дядя из Израиля Лейбовича Гершензона Игорем Львовичем Голковым, а сыновья его, соответственно, Игоревичами Голковыми. В том же году оба поступилии в свои вузы и с блеском их окончили. Но в дальнейшем судьба сыграла с ними ту еще шутку: спустя несколько лет братья уехали в Израиль, где и живут с подозрительной фамилией Голковы, вместо того, чтобы носить свою благозвучную в тех местах - Гершензон.
Но вернемся к нашей семье. Как и требовала советская власть, мы были далеки от своего еврейства. О религии вообще никто не мог и подумать. Воинствующий атеизм – будь он проклят – нам вбивали в башку с самого рождения. А если учесть, что существует мнение, что еврей это не столько нация, сколько религия, то можно понять, с какого боку-припеку мы находились к своему народу. Тем не менее, у каждого из нас было немало случаев, дающих повод вспомнить, кто мы есть на самом деле.
Со мной впервые это случилось, когда мне было лет восемь- девять. В самом разгаре тогда была развернутая в стране антиеврейская кампания. Во весь опор раскручивалось печально известное «Дело вречей». Газеты пестрели сомнительного содержания статьями «про паразитов-евреев» и соответствующими анекдотами. Короче, шла массированная подготовка к задуманному Сталиным уничтожению нации. Были уже построены специальные бараки на Дальнем Севере. А недавно я с ужасом прочел, что была такая правительственная директива, которая предопределяла, что живыми до места должна доехать только половина отправляемых евреев. Остальных, по задумке правительства, должны были уничтожить на остановках возмущенные народные массы. А вы говорите, нацизм и Холокост!
Даже не могу себе представить, как себя тогда чувствовали мои родители - оба евреи и оба врачи. Но я -то всего этого не понимал. Я только страдал от того, что мальчишки на улице шпиняли меня, всячески подначивали и обзывали жиденком. И однажды я вбежал в комнату и с ужасом заорал: «Мама, неужели мы евреи!?». Не знаю, как выпутывалась мама из этой ситуации, кажется, убеждала, что евреи - это не так уж и плохо. А дальше по жизни каждому из нас хватило ситуации, в которых нам «корректно» напоминали о нашей неполноценности. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что любой «советский» еврей может вспомнить массу подобных случаев. Я же, коротенько, о двух «незначительных» из жизни моих родителей.
Отец мой вырос в небольшом украинском поселке. Папину родню я не знаю совсем, поскольку почти все они погибли в годы войны. Но то, что отец его был крайне далек от религии и ни о каком кошере в их доме не было и речи, я слышал неоднократно. Тем не менее, еще в далеком детстве поселковые пацаны порой ловили моего отца и мазали ему губы свиным салом, приговаривая при этом: «Жри, жидиня, наше сало». А он, кстати, с удовольствием съел бы его, если бы дали по - человечески. И этот сельский паренек, который прилежно учился в школе ( и на всю жизнь сохранивший это «еврейское» качество – ответственно относиться к любому делу), поступил в мединститут, стал врачем и прошел войну в капитанской должности начальника полевого лазарета. А после победы прослужил еще тридцать лет, несмотря на настойчивые просьбы о демобилизации. Не отпустили его и во времена грандиозного хрущевского сокращения армии ( офицеры шутили: выпили по двести, попали под миллион двести!). И все годы службы оставалось с ним «звание» образцового офицера и... память об обиде, нанесенной в послевоенные годы. Тогда друзья-офицеры настойчиво советовали ему вступать в партию, аргумент был единственный. «Ты хочешь всю жизнь оставаться майором?» – спрашивали друзья. ( Кстати , майором он так и вышел на пенсию). И папа решился, не зная, что решением этим «подставляет» своего приятеля, начальника политотдела части, у которого было распоряжение «евреев не рекомендовать». Но что мог поделать политрук? На общем собрании коммунисты даже не стали слушать ответы на вопросы политрука. «Что мы Виктора не знаем?» - раздавались выкрики из зала, и на первичном партсобрании папа был принят единогласно. Бедный политрук! Вопреки указаниям, он вынужден был вести еврея в округ на парткомиссию. Но уж тут – но пасаран!- сделали все «как учили», несмотря на то, что были нарушены и армейский устав и партийный. По армейскому закону, первыми должны вызывать старших по званию. Но прошли младшие офицеры, прошли старшины и сержанты и даже рядовые. Майор Голков остался последним. Был ему задан десяток вопросов, в том числе и о политике партии в области сельского хозяйства – уж это непременно необходимо было знать врачу! Но он ответил на все воросы - как обычно готовился тщательно. И его отпустили с миром, нарушив и партийный устав, по которому кандидату на месте должны сообщить о решении парткомиссии. Ему же лишь сказали: «Сообщим по месту службы». И отказали, не объясняя причин.
Двадцать лет после этого папа категорически отказывался подавать заявление, хотя настойчивых предложений было множество. И только спустя долгие годы все же вступил в партию. Видимо, надеялся все же получить очередное звание, да и подумывал о том, что после демобилизации придется искать работу. А что, кто-нибудь хочет сказать, что во второй половине прошлого века в КПСС вступали по политическим убеждениям?..
Совсем иная история была с моей мамой, которой никто не препятствовал при вступлении в партию – времена уже были другие. Однако своих «радостей» и ей хватило. Мама довольно поздно защитила кандидатскую диссертацию, была к этому времени уже опытным врачем и после защиты сходу получила два заманчивых предложения: ей предлагали на выбор должности зам. министра здравоохранения республики Коми или зав. кафедрой педиатрии Волгоградского мединститута. Однако, когда выяснилось, что за благопристойной «вывеской» «Голкова» скрывается мадам с девичьей фамилией Гершензон, ни о каких высоких должностях уже речь не велась.
Побегав несколько лет в должности участкового врача в одном из районов Волгограда, куда семья спешно переехала, и убедившись, что кандидатский диплом никак не помогает добираться до верхних этажей высоток, мама настояла на возвращении домой, в Кишинев. И теперь уже здесь, в родном городе опять же начались ее мытарства. Для опытного кандидата наук не было работы. И тогда мама решила обратиться в ЦК партии республики. И здесь инструктор соответствующего отдела в глаза ей заявил, что ничем помочь не может и что «мы должны воспитывать свои кадры!». И это звучало особо кощунственно, поскольку он знал , что мама моя и есть те самые «свои» - она и родилась, и выросла, и до поступления в институт успела еще поработать именно здесь, в Молдавии. В итоге, с большим скандалом добилась мама места... участкового врача. В течение многих лет доказывала потом, что является высококлассным специалистом, и уже в пенсионном возрасте назначили ее главным врачем Дома ребенка, который был признан потом одним из лучших в СССР.
Я прекрасно понимаю, что никого не удивлю своими историями, подобные может рассказать любой «советский» еврей. А у нас это было вот так.
А еще у нас была пара забавных историй, которые наводят меня на определенные размышления. Часто евреев принимают «за своих» в компании некоторых «нерусских». К примеру, на турецких базарах продавцы обращаются ко мне исключительно по турецки. А отец мой настолько был похож на грузина, что мне порой начинало казаться, что были в нашем роду представители этой почтенной нации. Во всяком случае, когда отец мой вставлял кисть руки за лацкан военного френча, он становился удивительно похож на Сталина. Однажды в Кишиневе к нему подошел грузин и заговорил на своем языке. «Извините, - смущенно сказал мой отец, - я вас не понимаю!» Что тут началось. Грузин поднял такой скандал, что отец был вынужден спасаться бегством. А вслед ему неслось: «Сволочь! Ты свою нацию скрываешь!». Но то была просто комическая ситуация. Со мной произошел совсем иной случай.
По приезде в Германию мы, небольшая тогда группа евреев, живших в Потсдаме, с огромным интересом поглощали знания, связанные и историей и религией нашего народа. Те знания, которых были напрочь лишены в СССР. Не пропускали ни одного шаббата, а уж тем более ни одного праздника, с восторгом узнавая их суть и способы проведения. Может быть, сейчас это звучит неправдоподобно, но в Совке мы были так далеки от своих традиций, что, когда впервые в Кишиневе официально отмечали еврейскую пасху, я, увидев впервые кипу, с удивлением сказал: «Лифчик что ли разрезали пополам?»...
В те времена, которые я вспоминаю (то был 1993 год), в только что созданной еврейской общине Потсдама не было постоянного раввина – посланцы Хаббад Любавич сменяли один другого. А порой образовывались и временные «пробелы», и тогда на шаббаты в Потсдам приезжал религиозный деятель из Берлина. Чаще других это был кантор по имени Григорий, ортодоксальный еврей, знаток религиозных канонов и... любитель «беленькой». Он не проводил шаббаты по всем установленным нормам, он проводил религиозные беседы, что тоже для нас было весьма и весьма интересно. И вот однажды, когда после кидуша все вышли на воздух покурить, Григорий, как обычно, вел беседу на свою любимую тему. Он говорил о том, что мы должны жить по еврейским законам и не скрывать своего еврейства. «Вот ты, - говорил Григорий, обращаясь к одному из нас, - все равно не спрячешься, у тебя на лице написано, что ты - еврей». То же самое он повторил, обращаясь ко второму, третьему. И тут мой приятель Анатолий указал на меня со словами: «Или вот он!» Григорий внимательно посмотрел на меня, пошевелил губами, видимо о чем-то рассуждая, и произнес: «Нет, он на еврея не похож!». Ну что ему было ответить? Рассказать, что в роду нашем ни по линии отца, ни, тем более, по линии матери не было ни одного нееврея? Ему это надо знать. А мне было и смешно, и немножечко обидно...
Шли годы. Разрасталась еврейская община Потсдама, создан был Союз еврейских общин земли Бранденбург. Потом он распался и снова возродился, но уже в другом качестве. Возглавили его люди абсолютно далекие от еврейской релиии, но преуспевшие в организации разного рода интриг; и из Союза вышли две самые многочисленные общины. Да и в самом Потсдаме не все обстоит благополучно. В городе, насчитывающем менее полутысячи евреев, созданы три(!) еврейские общины, да еще и культурно - интеграционный центр, которые дублируют друг друга и даже не стремятся прийти к общему знаменателю : в общем, лебедь рак и щука. Причем все три общины выглядят, мягко говоря, странно. В одной из них руководитель поначалу декларировал вообще отказ от всяких там религий, предлагал «открыть сеть магазинов и обеспечить всех работой». Дело, конечно, стоящее, но при чем здесь еврейская община? А позже, поняв, что религия в данных условиях и есть главный конек, заделался чуть ли не раввином, во всяком случае, сам проводит шаббаты. Во второй общине все еврейские праздники непременно заканчиваются громким распевом украинских песен – щиру украинскую душу никак не спрятать. А в третьей, преподносящей себя как истинно религиозную, руководитель добивается строительства синагоги, которая была бы максимально удобной не для религиозных отправлений, а для проведения концертов, поскольку руководитель этот – музыкант.
В этих условиях не слишком многие «совковые» евреи стали религиозными. Да и только ли в условиях дело? Большинство из еврейских эмигрантов - люди пожилые, воспитанные в течение всей своей жизни на принципах воинствующего атеизма. Легко ли в одночасье перестроиться? Тем более, что религиозные тексты сложны, многое невозможно объяснить логически. А многих ли из воспитанных в рамках социализма удовлетворит такое разъяснение раввина: «А вы не задумывайтесь, «почему», вы просто верьте!». «Просто поверили» немногие. И с трудом собирается миньян на шаббаты во всех трех общинах. Нет, не за свободной религиозной жизнью стремились в эмиграцию бывшие граждане СССР. Лично я не встречал ни одного такого. Все гораздо проще и гораздо сложней. Наиболее четкое определение всему происходящему дала обозреватель газеты «Русский Берлин» Ирина Стекол, которая с прискорбием подчеркиват, что «Гитлер своего добился, восточноевропейских евреев, которых он мечтал уничтожить, больше нет. Исчезли и их язык, и их культура – оно и понятно, рассеивание в дым шести миллионов представителей этноса не могло пройти бесследно. Те евреи, что живут сейчас в Европе – это совершенно другой народ, не лучше, не хуже, просто другой.
ПМЖ и ОВИР
Каждый, кто в свое время столкнулся с аббревиатурой ПМЖ, невольно узнал и еще одну омерзительную – ОВИР. Думаю, что, практически, у каждого эмигранта, который вынужден был обращаться в эту организацию, воспоминания о ней вызывают учащенное сердцебиение и отвратительное настроение. А что еще могут вызвать воспоминания о бесконечных ожиданиях очереди на прием, о беготне за бесчисленным количеством справок, об унижениях, которые приходилось терпеть, и при этом стараться выдавить из себя милую улыбку на лице? А попробуй не улыбаться, или, не приведи Господь, возразить. Враз получишь отказ. И с видимым удовольствием клерк произнесет заученную фразу: «Мы не обязаны объяснять причину отказа!». Но это, увы, не весь букет. ОВИР – это еще и «подводные рифы», обойти которые кажется совершенно невозможно. На такой «риф» и напоролась наша семья.
Дело в том, что у моей тогдашней жены было двое детей от первого брака. И чтобы оформить им документы на выезд, необходимо было согласие их отца, которое он, естественно, давать не хотел. Но эту проблему нам удалось преодолеть сравнительно легко. Папаша наших деток был человеком совсем не глупым, здраво рассуждающим. И он согласился на наше предложение. Правда, после того, как я объяснил ему, что, если он будет сопротивляться, то я не поеду ни в какую заграницу, а просто заберу семью и уеду в другой, далекий, город, куда меня приглашают на работу, и больше он своих детей не увидит никогда. А предложили ему следующее: мы забираем с собой дочь, а сына оставляем с ним. Пока. С условием, что когда мы устроимся, то он приедет к нам и, может быть, убедится, что в Германии детям будет гораздо лучше и согласится отдать нам и сына. В конечном счете, так оно и вышло. Но тогда до идеального решения проблемы было еще далеко. Это мне только казалось, что все сложности и неприятности уже позади. Я был наивным и не знал, что такое ОВИР.
Когда я сообщил о нашем решении сотруднице любимой организации, она бросила на меня безразличный взгляд, полистала бумажки нашего дела, и вдруг как-то приободрилась, словно ее посетила гениальная идея. И уже твердым и отнюдь не безразличным голосом произнесла: «Где решение суда о разделе детей?» Я буквально опешил и пробормотал: «Какое решение? Не было никакого суда, мы просто между собой договорились...» - «Без решения суда нельзя!» - «Но мы...». Лейтенантша швырнула в меня взгляд, в котором явственно читалось: разговор окончен, пшел вон! Я пулей вылетел из кабинета, а в голове стучала одна мысль: это конец и выхода из этого положения нет.
В принципе, я понимал, что из меня вытягивают взятку. Но как ее дать, я решительно не умею это делать. Да и где взять денег? На журналистскую зарплату, да еще при двух детях в семье, сильно не разгуляешься. А тех денег, которые мы выручили от продажи домашнего скарба, едва хватало на билеты до Берлина. Кстати, о билетах. Уезжая на ПМЖ, мы приобрели билеты в оба конца: туда и обратно. Нелогично? Бесспорно! Но знакомая кассирша в агентстве аэрофлота объяснила (не безвозмездно, конечно), что так нам будет дешевле, поскольку она оформит то ли туристическую, то ли служебную поездку. Парадоксы соцстроя!
Но о билетах речь пошла гораздо позже. Сейчас предстояло решать проблему с разделом детей. Я совершенно не представлял, где же найти выход из этого положения, просил совета у всех, у кого только мог, но все друзья и знакомые только пожимали плечами. Действительно, чем тут поможешь?! А оказалось, как это нередко бывает в жизненных ситуациях, «ларчик просто открывался». Когда я рассказал о своей беде приятелю Гарику, директору автосервиса «Москвич», он ухмыльнулся и сказал: «Подойди к окну, посмотри во двор». Я ничего не понял, но подошел и глянул. Ничего особенного, двор как двор. «Видишь под окном москвичок 2141?» Да, я видел, хорошая машина, округлые бока, наверное, первая из отечественных моделей, похожая на западные. Но чем именно эта отличается от всех своих сородичей, я пока не понимал. А Гарик продолжил: «Машина начальника ОВИРа». Я едва не грохнулся в обморок: «Родимый, выручай!» - «Пойдешь к Ивану Семеновичу, - сказал Гарик, - передашь от меня привет и скажешь, что машина его будет завтра готова». Он сел к столу и написал записку всего в несколько слов: «Иван Семенович, если сможете, помогите моему другу».
«Если сможете!». Я тогда не понял всю хитрость этих слов. Ну, да, полковник при такой должности и «если сможете». Я потом вспомнил эти слова, когда проблема была уже решена...
Помещение ОВИРа находилось совсем не в том здании, где велся прием. И попасть в кабинет начальника оказалось не так-то просто, даже при моем журналистском удостоверении. Но в конце концов мне удалось убедить прапорщика, что я направляюсь по служебным делам.
Полковник встретил меня радушно, почти как родного: «Ты откуда Гарика знаешь?». Я почти обрадовался фамильярному обращению. А что еще было ждать? Я проситель, он начальник, по тем временам и в той стране было бы странно, если бы он начал вести себя со мной тактично. «Мы с детства дружим», - соврал я, хотя был с Гариком знаком, практически, шапочно: как-то помог ему в небольшом деле, написал заметку о его конторе. Принимал он меня больше как журналиста, чем как товарища. Но здесь я об этом, естественно, умолчал.
Выслушав рассказ о моей проблеме, полковник стал листать небольшую книжонку, на обложке которой я прочел «Кодекс законов о семье и браке Молдавской ССР». Никогда не знал, что такая книга существует. Между тем полковник нашел нужную ему страницу, бегло прочел ее, куда-то позвонил (потом я понял, что в ЗАГС), перекинулся парой дежурных фраз и сказал в конце: «Ну, да, я так и думал». Затем нажал кнопку селекторной связи: «Мандрыкину ко мне!». Через минуту в кабинете стояла та самая лейтенантша, которая всего несколько дней назад за что-то меня так люто ненавидела.
- У вас дело Голкова? - спросил полковник голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
- У меня, - едва слышно ответила подчиненная.
И тут голос полковника приобрел металлическую жестскость. Фразу он произнес, четко отделяя каждое слово и на каждом делая ударение: «Кто вам сказал, что необходимо решение суда? Где вы это взяли?!»
Сказать, что лейтенантша изменилась в лице, значит, ничего не сказать. Лицо ее играло всеми цветами радуги, становилось то синим, то бледно-серым, ее трясло, и с трудом она выдавила из себя ответ: «Мария Семеновна». Через минуту рядом с ней стояла Мария Семеновна, как позже выяснилось, начальница отдела. Полковник уже едва не срываясь на крик, вновь произнес: «Откуда вы взяли, что необходимо решение суда?!».
Ответом было невнятное бормотание. А полковник продолжал: «Вас поставили помогать людям, а не строить им козни! Чтобы на следующем приеме паспорта товарищу вернули с разрешением на выезд».
«Мы их сейчас ему вернем, если он подождет минут десять»,- едва слышно произнесла начальница отдела.
Когда подчиненные вышли, полковник потрепал меня по плечу. «Мы бы в любом случае решили проблему, - сказал он, - ну а тут все обошлось по закону. Передай привет Гарику! Поезжай в свою заграницу и будь счастлив. Честно говоря, я тебе немножечко завидую...»
Ровно через десять минут в коридоре я получил паспорта, в которых стояла виза на выезд. Моя проблема развеялась легко и бесследно...
И я подумал: «Чудны дела твои, Господи»!
ЕЙ-БОГУ, БЫЛО! РАЗВОД НЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ...
До отъезда мы прожили с женой десять веселых лет. За это время вырастили двоих ее детей. Своих, слава богу, не нажили, как не нажили, практически, никакого барахла. С этим и прибыли в Германию. И уже здесь нажили головную боль и кучу неприятностей по поводу длительных ночных выяснений отношений слышимостью в три квартала. Спустя каких-то пару-тройку лет мы вдруг совершенно ясно поняли, что семья наша давно «закончилась», что поезд пролетает мимо нашей станции, и пора рвать стоп-кран. Руки обоих уже и потянулись к этому спасительному крану. Однако так и замерли на полпути, поскольку наши любезные друзья, сочувственно ухмыляясь, вопрошали: "А вы знаете, сколько в Германии стоит развод?" Мы знали, и потому продолжали трястись в расшатанной семейной тарантайке. Как вдруг, в один действительно прекрасный день, приятель Пашка в перерыве между третьей и четвертой спросил: "А чё вы не разводитесь?!" Я не нашел ничего лучшего, чем ответить словами любимой песни: "Где деньги, Зин?" - "Какие деньги - вдруг серьезно произнес Пашка. И выпил внеочередную, – Причем тут деньги? У вас общих детей нет? Нет! Материальных претензий друг к другу нет? Нет. Значит, вы можете развестись в своем посольстве, практически бесплатно". Я как-то опешил и спросил механически: "В каком посольстве?" - "Можете обратиться в русское, - многозначительно сказал Пашка, - но вряд ли там станут с вами разговаривать, вы же приехали из Молдавии".
Тут только до меня дошел смысл его слов. Я готов был сию же минуту лететь в посольство. Но под руками был не руль автомашины, а стакан. Мероприятие пришлось отложить до утра.
И вот уже оно настало, и я на крыльях лечу в посольство. Благо лететь было
недалеко, в центр Берлина. А вот раньше, когда надо было менять паспорт, пришлось слетать подальше, в центр Бонна. А тут, каких-то полчаса, и вот она славная улочка, тихая и спокойная, хотя лежит себе недалеко от центра. Просто райская благодать:сколько угодно мест для парковки автомобиля, и у посольства – ну, просто ни одного человека. Мгновенными кадрами пролетели перед глазами взволнованные толпы «громадян» возле украинского посольства и господ у русского...
Правда, немного неуютно мне стало, когда я вошел в приемную. Какой-то странной она мне показалась. Этот столб посредине, подпирающий крышу, эта деревянная лестница. Они что, живут здесь, - подумал я, но ответить на этот вопрос не успел. Навстречу мне с лучезарной улыбкой шел сотрудник посольства. Тоже какой-то странный: маленький, с раскосыми глазами, прямо японец. Что это, в Молдавии молдаване кончились, подумал я, но виду не подал, а любезно так поздоровался. Разумеется, по-русски. Мой японец вроде как удивился, но ответил чисто по-русски: "Ага, ну, здравствуйте!"
Что это за "ага, ну...", мысленно возмутился я. «Не любите вы русский, это понятно, вон какую бучу затеяли по поводу перевода письменности с кириллицы на латиницу. Но уж здесь-то, в Германии, можно было бы и не выпендриваться, дипломат хренов. Тем более, что сами признали русский язык вторым официальным..."
Это я так думаю, но виду не подаю и любезно излагаю свою проблему, мол, я по поводу развода пришел. «Тогда вам надо обратиться к консулу», - еще более любезно улыбается мой японец и указывает на маленькую дверь под лестницей. Прямо закуток какой-то. Мне даже обидно стало за родную республику. Но в данную минуту не было времени разбираться со своими патриотическими чувствами, и я быстро вошел в кабинет. Батюшки мои! Я чуть не упал в обморок! За столом сидел точно такой же японец! Подумал: «Может, я прозевал тот факт, что Молдавия объединилась с Японией?" Но вида на подаю и излагаю свою проблему, естественно, по-русски. "Ну и что вы хотите?" - спрашивает старший японец, выслушав мою сбивчивую просьбу, не выразив никакого удивления по поводу моего русского языка. "Как это, что, - возмущаюсь я, - материальных претензий нет, общих детей нет, имеем право развестись в посольстве."
Консул как-то странно на меня посмотрел, подумал немного и спросил: "А где вы женились?» Просто бестолочь какая-то, хуже молдаванина! Я, конечно, сдерживаю возмущение и все же не без ехидства отвечаю: "Разумеется, в Молдавии, в Кишиневе". Тут мой японец уже не сдерживает смех и спрашивает: "Вы в какое посольство пришли?" - "Что значит в какое? В Молдавское!"
- "А это посольство монгольское. Вам нужен дом номер шестнадцать, а это дом номер шесть...»
Я, конечно же, вскорости нашел свое посольство, дело свое мы уладили.
И счастливая жена, уже бывшая, на прощание сказала: "Все-таки русский язык действительно великий и могучий!..»
ПРИТЧА О ВОЗРАСТЕ
Как безобразно мы были молоды! Как беззастенчиво счастливы! На студенческую тридцатку мы ухитрялись как-то питаться, выпивать вино и приобретать еще
кое-что из прикида. Правда, такого слова тогда не было, но - какая разница - было что-то другое. И вот: чтобы выглядеть, приходилось идти на всяческие ухищрения. Мы и шли. Мой дружок Валерка, одессит, а значит, умница и светлая голова, додумался до гениальной идеи. Он купил обыкновенный краситель для тканей, четыре простейшие белые рубашки и выкрасил две из них в черный цвет и две - в красный. Вот в таком виде - он красный, а я черный, или наоборот, - в таком наряде мы выходили на наш кишиневский Бродвей. Ах, что это было за время! Мы ловили на себе восторженные взгляды девушек и завистливые парней. Кое-кто даже пытался выяснить: где и почем. Но мы хранили гордое молчание. И вдруг в нашей компании нищих студентов и не намного более богатых актеров появился новичок. Не знаю, каким ветром его занесло к нам. Но занесло. Он был моряком торгового флота, ходил в загранку и не упускал случая этим похвастаться в присутствии барышень. Но дело не в этом, дело в том, как он был одет. На нем были не просто американские джинсы, вожделенная и несбыточная мечта каждого из нас, на нем был джинсовый костюм! Что это значило по тем временам, описать невозможно. Хорошо помню, что я думал тогда: "Ну зачем тебе такой прекрасный костюм, ты ведь уже такой старый!" А было тому пареньку лет под тридцать.
Когда я подошел к этому рубежу, мой дядя, младший мамин брат справлял свое пятидесятилетие. В центральном ресторане Кишинева собралась практически вся наша родня, больше ста человек. Все веселились и радовались так, словно каждый выиграл в лотерее по "Волге". Но особо веселился сам виновник торжества. Он беспрестанно танцевал, вытаскивал в круг поочередно всех женщин, обнимал их, шутил и балагурил. А я сидел в дальнем углу и мрачно рассуждал: «Чего ты так радуешься, ты же ведь уже такой старый?!". И сейчас, когда однажды моя почти девяностолетняя мама, дай Бог ей здоровья, в очередной раз надевала на себя все побрякушки из золота, что скопила за долгую жизнь, я не выдержал и сказал ей : "Мама, ты случайно не забыла о своем возрасте?!" И она мне ответила: "Эх, сынок, стареет тело, душа не стареет никогда!"
